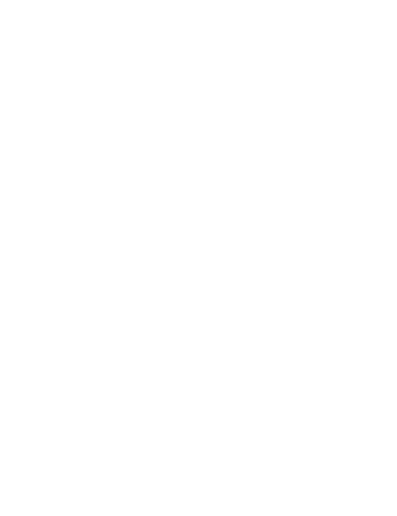
Рецензия на книгу Ивана Ром-Лебедева "От цыганского хора к театру "Ромэн"
Ром-Лебедев И. От цыганского хора к театру "Ромэн". М., 1990.
Иван Иванович Ром-Лебедев это одна из самых загадочных фигур среди тех, кто писал о цыганах. Драматург. Автор рассказов. Создатель книги воспоминаний. С одной стороны его творчество хорошо известно, а с другой - мало кто вдумывался в ребусы, которые он нам оставил.
Уже в этом месте многие удивлённо поднимут брови. Какие ребусы? Разве книги и пьесы Ром-Лебедева можно назвать сложными для восприятия?
Определённый резон в таких возражениях есть. Драматургия обсуждаемого автора долгие десятилетия составляла основу ромэновского репертуара. И даже советская критика часто поругивала эти пьесы за бездарность. Рецензенты справедливо замечали, что речь героев должна отличаться от газетных передовиц, а плоские ходульные характеры не спасёт даже очень правильная политическая линия.
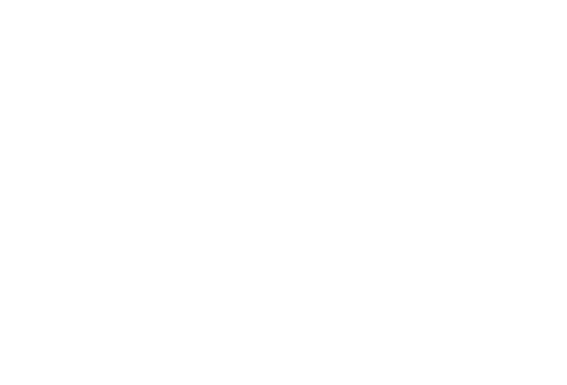
Очень неровной по уровню была и книга, озаглавленная "Таборная цыганка". Большинство рассказов там было скроено по агитпроповским лекалам. Но я настоятельно рекомендую вам почитать "Семью Буряковых" (этот прекрасный психологический этюд представлен на нашем сайте). Здесь и правда характеров, и атмосфера времени. А ещё - лукавое вступление, позволившее обойти цензурные рогатки.
Собственно говоря, сейчас мы подошли к главному в творчестве Ивана Ивановича. Этот умнейший человек ухитрялся с простодушным видом протащить в печать такое, за что с других содрали бы шкуру!
Официальная биография Ром-Лебедева словно списана с газеты "Правда". Цыган, который вернулся с гражданской войны в красноармейской шинели, вступил в комсомол и в партию, агитировал таборных цыган за колхозы и стоял у истоков театра "Ромэн". Ром-Лебедев презирал дореволюционную богатую публику, которая не могла оценить цыганский фольклор и был глубоко признателен Ленину и Луначарскому, а также всем большевикам вместе взятым за то, что они сломали барьер между подлинным народным искусством и широкими массами зрителей…
Красиво выглядит? А если я вам скажу, что от власти Ленина юный Ваня Лебедев сбежал к белым? И что во время гражданской войны он служил под началом Деникина и Врангеля? Уже интереснее - не правда ли?
Возникает встречный вопрос. Откуда я почерпнул такие сведения?
Да из той самой книги, которую мы сейчас обсуждаем! Всё это умудрился написать в своих воспоминаниях сам пожилой драматург. А потом ещё издал большим тиражом за государственный счёт на излёте советской власти.
Обычно я не злоупотребляю в рецензиях количеством объёмных цитат. Но здесь особый случай. Да простят меня читатели, ниже я пойду по стопам незабвенного Белинского, который переписывал крупные куски авторского текста, а потом снабжал их пространными комментариями. Итак - выделяем для расследования тему: Детство и юность Ивана Лебедева" (с особым упором на его похождения во время гражданской войны.
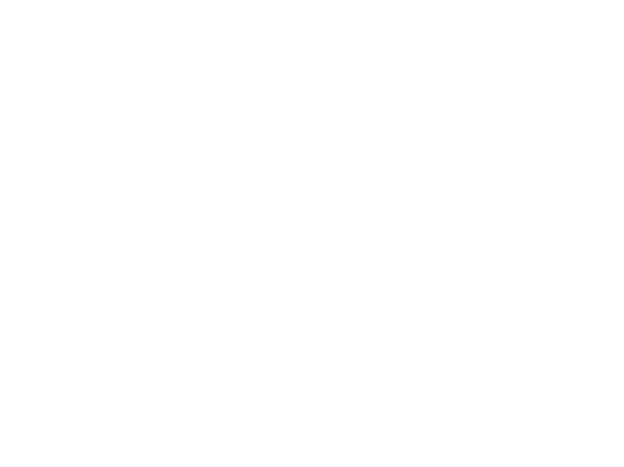
Таким образом, именно в те годы, когда закладываются основы характера, в мальчике никто не воспитывал цыганское мироощущение. Наш первый вывод: Иван Ром-Лебедев душою не совсем цыган. С поправкой на это мы и будем воспринимать всю его дальнейшую биографию.
К началу Первой мировой войны семья Лебедевых живёт в пяти-комнатной московской квартире - просторной и хорошо обставленной. Мебель под кожу. Домашняя прислуга. Но при всём этом книга пронизана сарказмом в адрес унизительной дореволюционной жизни! Хоровые цыгане, судьбы которых наш герой знал не понаслышке, вынуждены были выступать в ресторанах - на потребу богатеям. Все эти дворяне, фабриканты, купцы, великие князья и генералы не могли похвастаться мозолистыми трудовыми руками. Лишь один дореволюционный гость был из крестьян (да и тот Распутин). Единственным смягчающим обстоятельством для "хозяев жизни" было то, что они щедро расплачивались за хорошую музыку, и на их деньги цыгане могли строить особняки, нанимать прислугу, учить детей в гимназиях и институтах.
Вспомним, как описывает Ром-Лебедев собирающихся на работу участников хора:
"Чёрные смокинги, лакированные узконосые туфли, белоснежные манишки, увенчанные чёрными бабочками. Усы нафабрены, волосы прилизаны, припомажены. Не цыгане, а господа! Помахивая скрипичными футлярами, отдельной группой спешили музыканты в котелках, цилиндрах...
Ночью, почти перед рассветом хоровое население Петровского парка теми же группами возвращалось домой.
Если в эту ночь в кабинете кутила с цыганами богатая и щедрая компания, не жалеющая ни денег, ни шампанского, одарявшая хор "лапками" - денежными подарками, то, возвращаясь, шли бодро, весело, а кто и нанимал за пятак извозчика.
А если ночь была "неудачливая", в кабинет цыган не приглашали, "лапки" были скудные - то обратно шли медленно, усталые, полусонные.
И так - каждый день".
Мировая Война мало что изменила для обитателей Петровского парка. Разве что кутежи обеспеченного класса стали - в духе времени - отчаянными и до предела разгульными.
"Разбогатевшие на военных поставках купцы, фабриканты требовали веселья, песен, вина. Денег не жалели.
У "Яра", в "Стрельне" свободных столиков не было. Все кабинеты были заняты. Гремели оркестры, пели хоры. Цыгане переходили из одного кабинета в другой.
Но гости были уже не те, понимающие. Романсов не слушали. Заказывали плясовые - бешеные. Плясали вприсядку сами.
Когда расплачивались, внимательно подсчитывали ассигнации. Сверх положенного давали, но так, чтобы чувствовали "барский размах" и нижайше благодарили. А хоровые ловкачи по-прежнему выуживали у подвыпивших гостей "лапки".
После ресторана "лапочники" катили на "ваньках" в трактир у Тверской заставы. Этот трактир работал всю ночь, в нём отдыхали и распивали чай московские извозчики.
Когда прикатывали цыгане, хозяин трактира, улыбаясь и кланяясь, встречал их:
- Есть судачок-с! По-деревенски! На сковородочке. С картошечкой, с лучком-с! На закусочку - любительский студень! С чесночком-с! Прикажете оборудовать-с?
- Чувствуя себя в этом трактире "господами", "лапочники" пропивали и проедали униженно выклянченные в ресторане "лапки". Расплачивались как истинные господа, небрежно бросая на стол "чаевые".
Половой низко кланялся: "Покорно благодарим-с! Милости просим завтра... Будет поросёночек - с хреном-с!""
Люди пишущие, знакомые с литературными приёмами, понимают, как умело наш автор (практически на пустом месте) создал впечатление чего-то постыдного из естественной для любой нормальной страны жизни ресторанного артиста. Специфика профессии подана здесь так, чтобы читатель воспринимал конец цыганских хоров не крушением культурной традиции, а освобождением из кабалы капитала. Что ж. Воспримем сию фигуру речи как должное. В конце концов, нам не привыкать. Даром что ли семьдесят лет учились читать между строк?
Посмотрим, как же развивались события дальше. Ведь в отличие от записных советских лжецов Иван Ром-Лебедев умолчаниями не злоупотребляет и даёт достаточно материала для размышления.
"...Осенью в Петербурге произошла настоящая революция - пролетарская! Россия стала советской.
Цыганские хоры восприняли советскую власть по-своему.
Главный "политик" - дядя Вася-Змей - авторитетно разъяснял:
- Что такое "большевики", кто такой "пролетариат", что у них на уме, до нашей телячьей головы всё равно не дойдёт. Наше цыганское дело - сидеть и ждать...
Ждать было трудно, и чувствовалось, что будет всё трудней.
Война пожирала всё. За хлебом ещё до рассвета выстраивались очереди. Магазины, рынки пустели.
Опустел "Яр". Погасли зазывные огни "Стрельны".
Цыганские хоры оказались в очень трудном положении...
Ресторанная жизнь, тянувшаяся почти полтора века, надёжно кормившая целые поколения московских и петербургских хоровых цыган, внезапно оборвалась.
А жить по-другому они не умели. Умели петь, плясать, играть на гитаре - "А кому это нужно?"
....Известный дирижёр московского цыганского хора Егор Поляков в эти трудные дни колол дрова в булочной Гревцева, получая за это кусок хлеба или три-четыре горсти муки.
Наша семья жила более или менее сносно. Мы не голодали. Прислугу рассчитали. Отец через конных цыган иногда раздобывал конину. Это было счастье! Ездил он в числе "мешочников" куда-то далеко от Москвы, привозил муку, картошку.
Мать откуда-то приносила воблу. Ели её без хлеба и запивали кипятком с сахарином".
Николай Николаевич Кручинин, один из московских цыган пошёл на приём к Луначарскому, рассказал о том, как мыкаются хоровые цыгане. Первый нарком просвещения назначил просмотр хоровых коллективов.
"В результате просмотра цыганским хорам поручалось обслуживать части Красной Армии, а за это выступающим полагался красноармейский паёк. Это был прямой ответ на вопрос растерявшихся цыган: "Кому это нужно?.."
Первое выступление хора перед усатыми и бородатыми людьми, повидавшими фронтовую жизнь, в вытертых шинелях, стоптанных сапогах, застиранных обмотках, огромных скособоченных ботинках. Уходящие в темноту зрительного зала ряды будёновок, шапок, папах. Всё это запомнилось - навсегда!
Зал был забит до отказа. Сидели на стульях, на полу, стояли вдоль стен, возле сцены. И над всем этим - непрерывный гул...
Всё разом затихло и замерло, когда открылся занавес. Люди жадно всматривались в яркие цыганские костюмы, в сверкающие на груди хористок монисты, в цыганские серьги, висящие золотыми кольцами из ушей...
Выжидающая тишина... Из тишины возникла удивительная, неслыханная ещё песня. Постепенно нарастая и убыстряясь, она своей удалью, степным раздольем захватила весь зал. А потом вдруг выскочил из-за спин хористок молодой цыган в красной шёлковой рубашке, в лёгких сапожках и стал выделывать руками и ногами нечто такое, чего не видали, наверное, и лучшие плясуны из сидящих в зале.
Но вот исчерпала себя песня, плясун замер на месте. Зал тоже замер на мгновение - но тут же взорвался криками, топаньем ног, бурей аплодисментов...
Такого хор не ожидал.
Там, в кабинетах "Стрельны" или "Яра" снисходительное похлопывание в белые ладони казалось самой большой похвалой. А здесь?! Ураган! Восторг! И это было всюду, где зрителями были красноармейцы.
Вот кто по-настоящему, от всей души оценил искусство цыган. Вот, оказывается, кому оно нужно!..
Случилось самое важное. Люди, готовящиеся к смертельным боям за советскую власть, пробудили в хоровых цыганах человеческое достоинство! Веру в своё искусство, уважение к себе, ему служащему.
Теперь они, одетые в дорогие костюмы, в лакированных ботиночках, белоснежной манишке с чёрной бабочкой не могли бы, под искусственной улыбкой скрывая своё унижение выпрашивать у подвыпивших гостей "лапки".
(Тут Ром-Лебедев погорячился. Ведь сам же написал в следующих главах, что в годы НЭПа вернулись и рестораны, и денежные вознаграждения от богатых посетителей.)
Теперь они почувствовали себя - артистами! Теперь они знали, что их песни, их пляски, гитары нужны народу!
Когда началась гражданская война, цыганские ансамбли выступали перед бойцами Красной Армии, провожали их на фронт и каждый раз чувствовали себя частицей этого движения.
...Тысяча девятьсот восемнадцатый год. Москву одолевают трудности. Магазины опустели. Пропали дрова, уголь. Начались перебои с хлебом.
Но москвичи бодры, деловиты - особенно молодёжь. Они знают, что это бытовые невзгоды, вызванные всепожирающей, опустошающей, нелепой и изнуряющей войной пройдут. Они верят в своё будущее - прекрасное, захватывающее.
Цыганский хор отца... получал скромный красноармейский паёк.
Главным продуктом пайка была вобла. Её подавали на завтрак, из неё варили суп, ею ужинали, запивая сухие дольки морковным чаем с сахарином. Хлеба хватало только на обед".
Казалось бы, чего ещё надо? Иго буржуазии свергнуто. Человеческое достоинство появилось. Живи и радуйся. Но вдруг в Ром-Лебедеве проснулась тяга к дальним странствиям. Взыграла, так сказать, цыганская бродячая кровь.
"Уже давно меня звали дороги. "Не пропаду" - уверял я себя".
Далее следует очень интересный пассаж. Автор мемуаров пытается показать, что, уходя, куда глаза глядят, как бы осуществлял невысказанную вслух мечту отца. Правда, тот - чистокровный цыган - никуда не побежал, даже когда большевики довели семью до пайка из воблы и нехватки элементарного хлеба. Но это неважно. Сын уже многими годами ранее усмотрел в его душе усталость от домоседства. Так что уход пятнадцатилетнего Ивана, это наследственность. Не иначе.
"Я и раньше не раз замечал, как мой отец, тогда живущий в собственном двухэтажном доме, в пяти-комнатной уютной квартире, державший домашнюю прислугу, горничную, кучера, дворника, известный московский дирижёр знаменитого цыганского хора, услышав курлыканье журавлиного табора, тоже впивался взглядом в высокое небо, рассекаемое крылатым треугольником.
Я видел глаза отца. Он жадно следил за полётом свободных птиц до тех пор, пока они не таяли в весенней синеве.
Рад ли был он, что стоит на веранде своего крепкого, надёжного дома?.. Не думал ли он о том, что счастье - там... среди упрямо машущих крыльями бездомных птиц".
Куда же пошёл искать счастье вчерашний гимназист? Наверное, начал странствовать по голодной, но свободной Совдепии? Как бы не так! Сел в поезд, залез под лавку и покатил в сторону Белгорода - туда, где власть большевиков кончалась. Сутки спустя Ром-Лебедев вливается в компанию "бывших", стремящихся поскорее попасть на оккупированную немцами территорию.
"Границу перешли легко."
И надо же! Война - войной. Разруха - разрухой. Но там, где коммунисты ещё не начали хозяйствовать, и в голодном 1918 году жилось сносно.
"Белгород. Рядом со станцией широко развернулся богатейший базар. Господи! Чего только там не было!.. Красные, будто полированные, помидоры, полосатые арбузы, круглые буханки белоснежного хлеба. Корзины яиц, широкие миски с жареными курами, творог, бутылки с подсолнечным маслом, кринки с мёдом... И это - после пустующих базаров полуголодной Москвы! Я смотрел, подавленный всем этим сказочным изобилием. Но покупателей было мало. Для такого роскошного базара - очень мало. Они лениво бродили между рядами, молча щупали, нюхали товар, пробовали творог, мёд, жевали дольки яблок и переходили от одной торговки к другой.
Я обошёл почти все ряды, впитывая в себя аппетитные запахи. Пробовал было отведать творога, но торговка, почуяв что-то, быстро прикрыла творог полотенцем.
Всё, что я видел, стоило дёшево, особенно овощи, хлеб, молоко, но у меня не было денег - ни копейки. Попросить я не мог".
Конечно, Иван Ром-Лебедев, как истинный советский человек вёл себя на сытой загранице достойно. В разговорах с трудящимися о временных продовольственных трудностях помалкивал. Москвича расспрашивали о Советской России, но он не наговорил лишнего! Напротив, вёл политбеседы - вроде этой, с железнодорожниками:
"Они подвинулись ко мне и, перейдя на полушёпот, стали расспрашивать о жизни в Москве, о том, кто такие большевики, чего они хотят, что думают об Украине.
А что я знал?.. В нашей цыганской семье политикой не интересовались. Знали одно: большевики - это пятый номер в списке политических партий, и за них голосовали все цыгане Петровского парка. Голосовали потому, что часто видели их у себя во дворе. Они собирали жильцов дома и, встав на крыльцо или скамейку, уверяли, что только пятый номер даст нам свободу, землю, счастье...
Конечно, мы знали, что какая-то гадючка стреляла в Ленина, что кто-то арестовал главного чекиста... Слышали об убийстве посла. Знали и о том, что против большевиков воюют какие-то анархисты, кадеты, ещё кто-то, но говорить мне об этом не хотелось. Я чувствовал, что эти два железнодорожника верят в Москву, в большевиков, и зачем им знать, что в Москве не всё ещё ладно.
К своему счастью, я запомнил слова из недавнего выступления докладчика-большевика в клубе лётчиков. Я часто бывал там, благо клуб находился в здании бывшего ресторана Скалкина - напротив нашего дома.
-Большевики говорят, - начал я поучать контролёра и кондуктора, жадно слушающих меня, - что война не нужна... Что мир с немцами - это правильно. И, что у немцев, там, дома, тоже заваривается суматоха и они скоро уйдут с Украины.
Упомянул и о том, что большевики надеются на Украину, что она им поможет и хлебом, и всякими нужными делами.
После такого "политического доклада" я тут же получил большой кус белого хлеба, шматок сала и стакан чаю".
Тут самое время поговорить вот о чём. Скитаниям по югу России в мемуарах посвящено много страниц. Понятно, за давностью лет проверить ничего нельзя. А факты, как известно, делятся на удобные и неудобные. Коммунист Ром-Лебедев знал, о чём нужно писать подробнее, а что лучше упомянуть вскользь. Я не буду останавливаться на эпизодах, где наш герой ищет работу или батрачит. Гораздо интереснее присмотреться к его странным взаимоотношениям с белой армией. Почему странным? Ну, прежде всего тон рассказчика. Мастерски владея словом, цыганский писатель и драматург мог бы размазать белых так, что мало не покажется. Назвал же он эсеровку Каплан гадючкой. Но тон - повторюсь - другой. Нейтральный. Информативный. Чуть ли не дружелюбный.
"...Я приехал в Екатеринодар, теперешний Краснодар.
Выскочив из вагона, я сразу окунулся в другой мир. Весь вокзал, перрон были заполнены бурками, черкесками, мундирами, гимнастёрками. Погоны, сабли, кинжалы. Всё это суетилось, бегало от вагонов в буфет, смеялось, пело... На путях стояли воинские эшелоны, набитые солдатами, лошадьми. То на перроне, то в вагонах вспыхивали песни:
Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва спалё...
Москва спалённая пожаром,
Францу...
Французу отдана...
Казаки пели: "Стоит гора высокая". Пели хорошо, стройно и с упоением.
У вокзального буфета теснились офицеры. Смеясь и выкрикивая тосты, они пили вино. У всех весёлые, довольные лица. Они рвались в бой. Они спешили освободить русскую землю от ненавистных большевиков, коммунистов - вернуть всё утерянное. Они были уверены в победе.
Из всей этой мешанины мундиров, черкесок, папах и фуражек образовывались полки, дивизии, армии... "За Единую-Неделимую!" - призывали меловые надписи на их эшелонах.
Так я впервые увидел Белую армию. Я с любопытством всматривался в каждого из белогвардейцев.
На перрон выскочил высокий, подтянутый трубач. Приложив длинную сверкающую трубу к губам, взял протяжную высокую ноту. Кто-то крикнул: "Цыганочку!" Трубач заиграл.
К вагонам со всех сторон потекли солдаты, офицеры. Через короткое время перрон опустел".
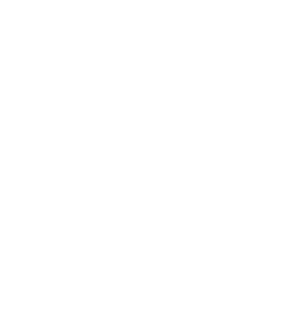
Нет, не подумайте чего! В санитарный эшелон он угодил совершенно случайно. Как говорится в популярном фильме: "Поскользнулся, упал, очнулся - гипс…" Заболел парнишка тифом и прилёг на вокзале рядом с больными солдатами добровольческой армии. Прилёг, потерял сознание - тут его и госпитализировали. Видно, белая армия занималась благотворительностью.
"Документов у меня никто не спрашивал. Раз прибыл с солдатами, значит - свой".
Болел Иван долго, а, выздоровев, стал "санитаром и помощником медицинской сестры". Не потому, конечно, что хотел лечить белогвардейцев. Просто наступила зима, и надо было дождаться майского тепла. Латынь Иван знал. Рецепты читал легко. Так что держали его при госпитале охотно. Он "помогал сестре разносить лекарства, мерить температуру, ставить клизмы, банки..." И вовсе не врагами трудового народа выглядят на страницах воспоминаний солдаты, которых он лечил. Смерть этих людей Ром-Лебедев воспринимал трагически - почти как личную утрату.
"...В конце палаты, куда почти не доходил свет, на моей бывшей кровати лежал недавно прибывший к нам пожилой солдат с типично русским лицом, бородатый, усатый... Добрыми голубыми глазами он радостно встречал любого человека в белом халате. Он верил - эти люди ему помогут. Температура была небольшая, и сам он был крепкий, мускулистый, улыбающийся.
Одна беда - на крестце у него были пролежни... Незаживающие. Они соединялись и образовывали большую, чуть ли не во всю поясницу, гноящуюся рану"
Как ни старались врачи, при каждой перевязке было видно, что рана разрастается. Когда стало окончательно ясно, что больной не жилец - сгниёт заживо, было решено дать ему смертельную дозу снотворного.
"Поздно вечером, когда все больные спали, сестра, как обычно, подошла к несчастному больному, заботливо прикрыла его одеялом и, развёртывая порошок, бодро сказала:
- Ну вот, больной... Тебе выписали новое лекарство, выпьешь, и всё будет хорошо...
Больной сам высыпал порошок в рот и запил водой.
- Ложись на бочок и спи, - напутствовала сестра. Поправив подушку, ушла.
Я сидел подавленный всем тем, что я увидел и услышал.
Бедный солдат!.. Он умер, уютно свернувшись калачиком, под тёплым одеялом".
В мае 1919 года Ром-Лебедев снова пустился в странствия. Одет он был - чтобы не выделяться - как солдат. Только погон не хватало. Тут надо сказать, что миграции юного цыгана, не иначе как по ряду случайных совпадений, подчинялись одному закону. Подальше от красных. Наш герой впрыгивает в теплушку к солдатам. Добирается до Новороссийска. Далее (наверное, из чистого любопытства) попадает на пристань, где разворачиваются сцены эвакуации. Кинозрители сразу вспомнят фильм "Служили два товарища". Там это хорошо снято.
"...Вспоминая Новороссийск того времени, прежде всего я вижу скопище шинелей, бурок, мундиров, гимнастёрок.
Всё это, смешиваясь, мечется, толчется, бранится - и всё устремляется на пристань. На корабли! Корабль - единственная надежда на спасенье.
Беспрерывно по трапу, торопясь, движется поток потрёпанных частей: дроздовцев, деникинцев, марковцев, шкуровцев... Они бегут в Крым. К Врангелю!
На рейде стоят чужие корабли. У пристани группами бродят, смеясь и громко переговариваясь на незнакомом языке, чужие матросы.
Тут же, чуть позади толпы, стоят понурые кони. Их бросили... Навсегда!.. Хозяева, давя друг друга, стараются попасть на палубу корабля. А преданные, по-лошадиному любящие кони всё ещё стоят, глядя вслед хозяевам печальными глазами. Они ещё надеются, а хозяева уже не надеются ни на что.
В стороне сгрудились кибитки таборных цыган. Возбуждённые, кричащие что-то друг другу, цыгане бросались к коням и привязывали их к своим кибиткам. Ошалевшие цыганки тащили сёдла. Вырезав добротную кожу, бросали их подальше от кибиток.
Цыганское счастье! И кони, и кожа - всё даровое! Успевай только брать.
Чуть подальше, у берега моря, спешившиеся кавалеристы прощались с конями. Обнимая за шею, целуя, они тут же пристреливали их".
Куда же направился наш герой? Белые ушли. Уж теперь-то шестнадцатилетний Иван не упустит шанса вступить в Красную армию? Он пишет, что ему туда очень хочется.
"Я уже видел себя скачущим на быстром коне и размахивающим над головой сверкающей как молния саблей..."
Между тем, крестьяне с хуторов тревожно спрашивали друг друга: "Что будет?"
- Известно что... Посадят, разорят, отнимут! - приходили крестьяне к общему заключению. Некоторые готовились уходить в Керчь - под защиту укрепляющегося в Крыму Врангеля. Пошёл туда и Ром-Лебедев. В книге он обосновывает свой выбор цыганской беззаботностью:
"В Керчь я шёл не торопясь, наслаждаясь волей. Пойду куда захочу и когда захочу... Птица!.."
Больше всего это похоже на Швейка, который искренне желал попасть на русский фронт, но его почему-то всё время несло в другую сторону.
К концу лета Ром-Лебедев уже в Керчи. Там он случайно попадает в руки белого патруля. И вот наш удивительный герой (только не смейтесь) насильно мобилизован в добровольческую армию! Какое-то время он находится в сапёрном батальоне. Изучает военное дело. Поёт своему командиру цыганские романсы. Офицер в ответ напевает любимую песню "Замело тебя снегом, Россиюшка", которая заканчивается трогательными словами:
Не добраться к родимым святыням,
Не услышать родных голосов.
Ром-Лебедев утверждает, что вскоре из части сбежал. Но сразу вслед за этим решительным поступком мы вновь видим его в госпитале с брюшным тифом. Госпиталь, разумеется, не гражданский, а снова военный. Иван - в палате для нижних чинов. Белогвардейская "благотворительность" продолжается.
Как раз когда больной пошёл на поправку и обдумывал излюбленную мысль: как бы пробраться "к нашим", появился поручик. Подойдя к дверям офицерской палаты, он сухо объявил:
- Господа! Кто хочет эвакуироваться в Турцию - идите на пристань. Срочно. Войска красных... прорвали оборону Перекопа... Госпиталь закрывается. Одежда - в приёмном покое. Торопитесь, господа!
Через несколько минут легко раненые потянулись к выходу. Цыганский парень пошёл, как читатель уже наверняка догадался, в ту же сторону. На пристань. Возле трапа уже сгрудилась бушующая толпа. Желающих избежать свидания с большевиками было великое множество, но шанс попасть на пароход был только у офицеров и их родни.
"Над головами метались чемоданы, баулы, коробки. У трапа стояли патрульные солдаты и вытаскивали из тесной, кричащей, плачущей толпы генералов, полковников. Поддерживали их под руку, поднимали по трапу.
Растерянные, плачущие дамочки теряли сумки, портпледы. Беспомощные старики, дети кого-то звали, за кого-то цеплялись.
Несколько часов длилась эта сумасшедшая посадка. Наконец корабль дал длинный гудок, стал отчаливать. На пристани осталась целая толпа провожающих, любопытных".
Это был конец белой эпопеи. Ром-Лебедев посмотрел вслед тяжёлому перегруженному судну и поплёлся назад - надевать на рукав красную повязку. Теперь, когда был разгромлен последний очаг сопротивления большевизму, Ивану стоило всерьёз призадуматься о своей дальнейшей судьбе. Ему уже семнадцать лет. Не мальчик. Что он объяснит чекистам, если они, не дай бог, спросят, почему он сбежал из Москвы и всю гражданскую войну околачивался у белых? Свидетелей его службы - и в госпиталях, и в сапёрах - было предостаточно. Это мы с вами верим, что произошло всё по чистой случайности. ЧК могла и не поверить. Многие бывшие белые сделали в тот момент то, до чего додумался Ром-Лебедев. Самый верный способ влиться в мирную жизнь - вступить в Красную армию. Интересней всего, что новоиспечённые красноармейцы не должны были испытывать моральных затруднений. Война кончилась. Стрелять по своим не заставят.
Цыганский драматург пишет, что красные его восхищали:
"Ещё два дня назад они бились насмерть с остатками врангелевской армии. В яростной схватке беспощадно рубили, уничтожали их. Сейчас это обыкновенные люди - добрые, весёлые... Ничьей смерти они не хотят!"
Увы, Ром-Лебедев забыл написать о расстреле бывших офицеров. Большевики предложили белогвардейцам явиться на регистрацию (20 лет спустя так же поступали фашисты с евреями). Тех, кто поверил и пришёл - поставили к стенке. Иван мог об этом и не знать. Он ощущал "блаженство" и "гордость", что 267-й Чонгарский полк принял его в свои ряды. Нашлось и настоящее боевое дело. Полк бросили на подавление махновщины. Вот кого Ром-Лебедев по-настоящему ненавидел. Для этих "бандитов" он не жалел бранных слов. Махновцы в открытый бой не вступали. По-партизански нападали на комиссаров и продотряды. Население укрывало их под видом родственников, сыновей, мужей. Приходилось, опираясь на сказанные тайком слова соседей, хватать на огородах мужиков и прямо тут же, без суда пускать в расход. Ром-Лебедев скромно умалчивает, участвовал ли он в этих экзекуциях. Зато - спасибо и на этом - честно рассказал о страшном голоде, поразившем изнемогающую от продразвёрстки страну.
"Я видел на тротуарах улиц мёртвых и умирающих беспризорников, опухших и почерневших. Возле некоторых, у самого рта, лежали кусочки чёрствого хлеба. Теперь они уже были им не нужны.
Я видел такое, что вспоминать тяжело, невозможно.
Три года прослужил я в Красной Армии. Ещё до возвращения полка в Мелитополь я, как цыган, играющий на гитаре и чуть-чуть на пианино, был зачислен в музыкальную команду. Мне дали огромную басовитую трубу - геликон. Больше всего я практиковался на похоронных маршах".
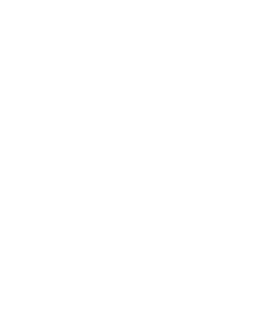
"Дочь шатров".
"Как только мы узнавали, что в таком-то месте расположился кочевой цыганский табор, мы устремлялись туда и, оставив в сторонке телегу, являлись к цыганам как бы случайно, мимоходом. Присаживались, угощали детей пряниками, конфетами. Потом заводили разговоры о житье-бытье, иногда пели с ними, плясали и будто невзначай переходили к разговорам о жизни цыганских колхозов: рассказывали, как заботится правительство о цыганах, желающих перейти на оседлость...
Застрельщиками в нашей группе были выделены два пожилых актёра: дядя Миша Ильинский и дядя Ваня Сорочинский. Оба степенные цыгане, когда-то жившие в таборе... Им нравилось сидеть среди шатров, кибиток, костров: невольно наши агитаторы против кочевья предавались приятным воспоминаниям о прошлом..."
Не скрывает Ром-Лебедев и мизерные результаты своей агитации. Если мы проигнорируем словесные кружева, призванные показать уверенность в правоте социалистического переустройства, то увидим глубоко правдивую картину. Кочевые цыгане бегут от городских краснобаев как от чумы. Это нормальные трезвые люди. Они вовсе не горят желанием совать шею в колхозное ярмо и работать "за палочки".
"Однажды во время наших поисков они сообщили, что километрах в трёх от нас остановился большой табор.
Вся группа немедленно ринулась туда...
Цыгане приняли нас насторожённо, но после обмена несколькими цыганскими фразами предоставили место у костра... Завязался откровенный разговор.
- Хоть как вы живёте, ромалэ? - спросил кто-то из нас.
- А как? Живём!.. - уклончиво ответил носатый цыган в синем картузе. - Вот видишь? Шатёрики, костёрчики... Как полагается.
- Мы веру свою старинную... бережём, - подняв палец вверх, значительно заявила старая круглолицая цыганка в мужском пиджаке. - Вот вы в театрах под нас, таборных, подделываетесь, хай шатры на досках ставите... У нас жизнь настоящая! Сурьёзная. А у вас - так. Забава...
- Вот были мы в одном цыганском колхозе... Всё им дали - и землю, и хаты. И всё - бесплатно.
- Знаем мы это "бесплатно"... Коней забрали, кибитки забрали.
- Зачем?! На них они и работали: привозили, отвозили. Дети в школе обучались. Кто сейчас на тракториста учится, кто шофёрскому делу.
- А-а-а!.. - отмахнулась цыганка. - Хай, трактористы! Рычат целый день на поле, оглохнешь. Природа наша, цыганская, - вдруг завопила она, - не та! Понимаешь?! Не та!
- Так и время, бабушка, не то! - завопил я в тон старухе. - Какая сейчас жизнь в таборе? Вот хоть у вас?
- Живём, не подыхаем.
- Переячь, пхуромны (перестань, бабушка), - остановил старуху носатый цыган. - Что говорить, живём, конечно, трудно... Кто с нами возиться будет? Учить?! Пошлют нас...
- Не пошлют.
- Вы их что ли заставите? - заспорил носатый.
- Не заставим, а договоримся. Хоть завтра! Подъедем к колхозу, как родных примут.
- Чудеса!
Цыгане недоверчиво смотрели на нас.
- Не понравится, - нажимал я на табор, - запряжёте коней в кибитки и - айда! Неволить не будут. (А вот это, положим, заблуждение. Читатель помнит, что из колхоза хода назад не было. Н.Б)
- Вот если вы не зря этот разговор затеяли, а взаправду хотите нам помочь... - оглядывая табор, протянул носатый.
- Поможем, - радостно перебил я, торопясь заверить его в серьёзности наших намерений.
- Слышите, цыгане? - обратился он к табору... Решили кончать с таборными делами? Или как?
Цыгане молчали, потупясь.
- Я лично со своей семьёй поворачиваю оглобли, куда москвичи скажут.
- Нэ, так и мы с тобой, - загудел табор.
- Все?! - крикнул носатый цыган?
- Все, - дружно ответили цыгане.
- А ты, пхуромны?..
- Цыгане, - вскипела старуха. - задурили вам головы...
- Кто задурил?! Сами видели! - загремел носатый. - Плохо что ли живут на земле цыгане? Получишь участок, курей, поросят разведёшь... Будешь жить как царица!
- Ладно, не распинайся... Одна, как луна в небе крутиться не буду.
- Замётано, - весело обратился к нам носатый. - Теперь дело за вами. Куда нам ехать? В какой колхоз?
- Никуда не надо, - обрадованный решением табора, ответил я. - Мы завтра сами за вами приедем, прямо сюда, на это место... Будут ждать вас с хлебом-солью, - закончил я.
- Слышите, ромалэ?.. С хлебом-солью!
- Как в сказке!
- Будем готовы. Ждём! - заверил носатый.
Мы тепло простились с цыганами. Они радостно заглядывали нам в глаза, крепко пожимали руки.
По дороге из табора мы зашли в райисполком, договорились обо всём... На следующее утро зашли в колхоз и подготовили встречу с оркестром! Довольные всем подались в табор.
Вот и знакомая уже берёзовая рощица, полянка и... Ни одного шатра, ни единой кибитки... Только на месте, где стоял табор, чернели круги от холодного угля кочевых костров.
- Сбежали!
Дядя Миша с восхищением сказал:
- Вот бэнга (черти)! Разыграли перед нами спектакль, не хуже, чем в нашем театре, - и сгинули.
Табор исчез!
Года через три встретили мы пожилого цыгана из этого табора.
- Только вы ушли, - рассказал он, - Васька носатый повелел нам: "Дро дром!" (В дорогу!) Ну мы все кинулись собираться. Уходили ночью, крадучись. Ругали вас! Особо старуха... Забралась в кибитку, расселась на подушках и пошла долбить: "Хай, обрадовали! Колхоз! Хаты, огороды! Стояла бы там, как чучело... Свиней придумали. Сами бы, как свиньи, рыли носом землю, хрюкали! Чтоб у них языки поотсыхали! С хорошего места согнали. И не провалились сквозь землю, пока дошли до нас!"
Интересный отзвук ромэновских уговоров мне удалось найти в прессе тридцатых годов. Там, в частности, цитируются жалобы советских чиновников на вероломство цыган, "сагитированных товарищем Лебедевым". Оказывается, хитрецы взяли подъёмные деньги (и немалые), а до назначенного им колхоза так и не доехали.
Кстати, подобные коллизии правдиво описывает в книге "цыгане" Е.Друц. Кочевые семьи с удовольствием брали кредиты "на оседлость", а потом исчезали в неизвестном направлении. И лично я не вижу в этом особого преступления. Та власть, которую цыгане с удовольствием "пощипали", незадолго перед этим провела массовый грабёж, именуемый "раскулачиванием".
К числу творческих удач можно отнести многие места, продиктованные искренней симпатией к "первобытной дикости". Хороша сцена с кэлдэрарами, которые развели костёр на полу дома, а потом показали комсомольцу-активисту свои старинные танцы (С.73,74) Интересно читается история о том, как пришла в создающийся театр таборная молодёжь. Проникнуты доброй иронией и воспоминания о дореволюционных хорах. Сын дирижёра подметил контраст между пышными дворянскими нарядами солисток и их кругозором. Не могу удержаться - приведу-таки цитату о беседе двух цыганок после посещения особняка Рябушинского.
"Ты, Маша, поверишь? У многих господ была, у князей, но такого не видела. Вот барин так ба-арин! У бога того нет, что у него. Ты видела картины?! Рафуля (Рафаэля)! Еще какого-то Леопарда (Леонардо)! Продать нас со всеми нашими цыганскими погремушками, и то за них не расплатишься."
Забавно?
Да - читается повествование Ром-Лебедева легко. Давно ушедший быт встаёт перед нашими глазами как живой.
Но именно это и опасно!
Не будем забывать - Иван Иванович был прирождённым мифотворцем. Он умел так сместить акценты, что неподготовленному читателю практически невозможно отличить зёрна от плевел. Любой ложный посыл Ром-Лебедев оборачивал в красивую упаковку и подпирал "простодушной искренностью". Поди разберись потом, из каких соображений с тобой вступили в игру!
Хорошо, если цыганский драматург применял свои таланты для того, чтобы морочить цензуру. Но ведь разбираемая нами книга полна противоположных примеров. Увы, Ром-Лебедев создал насквозь фальшивую теорию, согласно которой без большевиков русская публика так и не узнала бы таборных песен. Мне уже не раз доводилось опровергать фактами эту глубоко ложную концепцию. Ещё до революции хоровые цыгане ввели в свой репертуар "кочевые песни" на цыганском языке. Вовсе не благодаря Ленину и Луначарскому нарядились цыганки в цветастые юбки и мониста. И вовсе не держали руководители хоров "истинный фольклор" под негласным запретом. В реальности именно они и были создателями песен, считающихся сейчас народными!
Сейчас уже безразлично, из каких соображений Ром-Лебедев внедрял в умы агитку о благотворной роли партии, без которой якобы цыганское искусство вырождалось в угоду кучке богатеев. Важно то, что выкорчёвывать этот миф придётся десятилетиями. И - кстати - без всяких гарантий успеха.
Огромную разрушительную силу имеет и второй миф, значительно укрепившийся благодаря усилиям Ром-Лебедева. Разве не он противопоставил поведение цыган во время Великой Отечественной войны и в дореволюционный период?
Цитирую:
"До революции цыгане шли на всяческие ухищрения, лишь бы не служить в царской армии. Особенно таборные. В дни мобилизации они укрывались в лесах, молодежь отращивала длиннющие бороды, усы, скрывая свой возраст. Нередко прибегали и к крайним средствам - калечили руки, ноги, портили зрение.
В гражданскую войну цыгане вместе со всем народом защищали революцию.
В годы Великой Отечественной войны они шли добровольно в армию, защищали землю, приютившую, приголубившую их,- землю, ставшую им родиной."
Признайтесь, уважаемые читатели - вы же в это поверили. Были цыгане до Великого Октября шкурниками, а потом вкусили ленинской правды - и впервые пошли защищать родину…
Ума не приложу. Неужели не стыдно было Ром-Лебедеву писать такую ересь? Разве он сам не упомянул (на стр.46) о цыганах, вступивших в кутузовскую армию для отпора Наполеону? А кто ещё мальчишкой сбежал на германский фронт в начале Первой мировой войны? Неужели ближе к финалу книги Иван Иванович забыл факт из собственной биографии? На всякий случай напомню содержание страниц 89, 90. Там подробно рассказано, как Ванюша Лебедев добрался до самой передовой, и обратно к папе с мамой его отправили уже из окопов. И ещё один вопрос зададим. Как нам быть с цыганскими солдатами, которые получали во время Германской войны георгиевские кресты? Этих отважных людей авторы вроде Ром-Лебедева старательно вымарывали из нашей общей истории. Будто и не было их вовсе. Будто не клали они свои жизни "за веру, царя и отечество". Интересно, что сказали бы дореволюционные герои, доведись им читать, будто они в лесу от призыва хоронились? Не удивлюсь, если бы схватились за топор и пальцы автору оттяпали.
Потому что во всём надо знать меру.
И потому, что есть хорошая пословица: "Играй, да не заигрывайся".
Мемуары Ром-Лебедева внешне просты. Но читать их надо с оглядкой. Ибо ради красного словца пожилой ромэновец был готов на многое. Отставим в сторону фрагменты с "советским душком". И приведём несколько абсолютно аполитичных фрагментов. Этнографам на заметку.
Вот рассказывает о своей жизни русская цыганка (естественно, в изложении Лебедева):
"...Вечерело. Тетя Надя зажигала керосиновую лампу с зеленым абажуром, закуривала. Затянувшись, продолжала:
- Кочевали мы как-то по венгерским да закарпатским землям." (С. 20)
Из последней фразы можно понять, что география кочевья у русских цыган была очень обширна. В реальности мы видим здесь чистейшее преувеличение. Никогда наши таборы в Венгрию не заезжали. Им там просто нечего было делать. Разве могли без знания местного языка гадать русские цыганки? И как смогли бы, не владея венгерским, менять лошадей их мужья?
А вот романтический отрывок о рождении русско-цыганского фольклора:
"…У кочевых костров рождались свои, навеянные кочевьем, истинно цыганские песни, пляски, музыка. В XIX веке "природы бедные сыны" колесили по старым российским дорогам, зимовали в деревнях, селах, селясь целым табором в одной избе… Жили таборные цыгане тем, что давалось им в руки: кузнечили, чинили и лудили посуду, меняли и торговали на конном рынке, пускали коням кровь. Цыганки гадали, ворожили, выпрашивали. Пели и плясали на ярмарках, улицах, площадях...
А когда занималась вечерняя заря, собирались цыгане возле костра вожака или уважаемого старого цыгана и, обсудив прошедший день и обдумав завтрашний, затягивали песню.
Пели и тогда, когда в ненастные осенние дни, в неуютное сумеречное время приходили усталые, прикрытые вымокшей шалью цыганки и приносили кой-какую снедь, которой и собаку-то накормить не хватит.
И вся цыганская жизнь, то радостная, то тоскливая и унылая - жила в этих песнях, рождаемых тут же у кочевого костра.
Песню подхватывал весь табор и пел вместе с создателем." (С.72)
Звучит опять же красиво. Но мы с вами этой конфетной обёртке верить не будем. Потому что табор у Ром-Лебедева сплетён из трёх очень разных этногрупп.
Меняли лошадей - русские цыгане.
Кузнечили - влахи (или сэрвы).
Лудили кастрюли - кэлдэрары.
А сочиняли те песни, которые сейчас считаются народными, главным образом в городских хорах. И делали это профессиональные музыканты. Уже потом, через родственные связи "кочевые песни" уходили в таборы.
Между прочим, когда Ром-Лебедев опирался на литературные источники, его и здесь порой "заносило". Виктор Шаповал подверг анализу отрывок о "полудиких хорах" и подметил любопытное смещение акцентов. Ром-Лебедев пишет на стр. 42:
"Жили цыгане и в районе Марьиной рощи, но там работали на гуляньях дикие, полутаборные хоры - больше гадающие, чем поющие"
В.Шаповал подмечает, что для автора нормой и идеалом был хор отца, работавший в "Стрельне". Тех цыган, которые пели в ресторанных павильонах Марьиной рощи, сын дирижёра воспринимал как конкурентов. Их желательно было как-то принизить. В этот момент Ром-Лебедеву подворачивается под руку следующий отрывок из Аполлона Григорьева:
"Для него, четверть жизни проведшего с цыганскими хорами, знавшего их все, от знаменитых хоров Марьиной рощи и до диких таборов, кочующих иногда около Москвы за Серпуховскою заставою… это была одна из любимых тем разговоров..." (Григорьев Аполлон. Великий трагик // Сочинения в двух томах. - Т.1. - М.: Худ. лит., 1990. - С. 512-552.)
Виктор Шаповал даёт по этому поводу следующие комментарии:
"Скорее всего "полудикость" хоров из Марьиной рощи - это ошибочная трансформация литературной цитаты. И еще: похоже, что во времена Аполлона Григорьева именно хоры Марьиной рощи были знамениты. Они противопоставлены диким. А Ром-Лебедев мог "вчитать" в цитату из Аполлона обратный смысл, отзвук неприязни родительского хора к конкурентам. Новый, не пушкинский "Яр" и "Стрельна" входят в моду позже, в конце 19 века [Ром.-Л.: 40]. О них нет речи у Аполлона. А дикие таборы стояли где-то в районе нынешних Карачарова - Кускова. Там и сейчас много зелени, да и бродяг."
Лингвисты наверняка заметят сложные отношения Ром-Лебедева с цыганским языком. Как мы знаем из рецензируемых мемуаров, в детстве Ваня говорил только по русски. А когда вырос, вряд ли освоил цыганский язык в совершенстве. На странице 84 мы читаем фразу:
"девчонка сумела взять у "гадже" (русского)".
Эта фраза не согласована. Вместо единственного числа (гаджо), применено множественное (гадже). Грубейшая ошибка в одном из самых распространённых слов!
В другом месте только что прикочевавшие в Россию кэлдэрары употребляют глагол с русской приставкой:
- Бадя, скхэл! (то есть - спляши). (С.74)
Между тем, подобные примеры характерны не для кэлдэрарского диалекта, а для этногруппы "русска рома". Именно русские цыгане дополняют глаголы приставками по принципу загэя (зашёл), угэя (ушёл), прогэя (прошёл).
Надеюсь, сказанного достаточно, чтобы понять главное. Книгу "От цыганского хора к театру "Ромэн"" надо читать с карандашом в руке. Цитировать с осторожностью. Если подойти к ней умеючи - она может стать ценнейшим историческим источником. Но если у вас не хватает знаний по цыгановедению, то легко попасть в умело сплетённые сети. Иван Иванович был талантливым мистификатором. И забывать об этом нельзя ни на минуту.
С чисто литературной точки зрения мемуары разделяются на две неравные части. Начало и середина написаны увлекательно. Финал (то есть вся послевоенная история "Ромэна") страдает комплиментарностью. Чисто по человечески это понятно. Чем ближе к современности, тем выше вероятность задеть кого-то из коллег. Поэтому проще обо всех писать только хорошее. Будто не было у цыганского театра творческих неудач и внутренних конфликтов. Словно жизнь плавно текла по накатанным рельсам и окружали автора одни лишь цыганские ангелы во плоти.
Станиславский сказал бы "не верю". Не поверим и мы. Путь "Ромэна" вовсе не был усеян розами. Если кто-то захочет написать подлинную историю театра, то ему скорее помогут архивные документы и - представьте себе - советские газетные рецензии. Как это ни странно, в тридцатые и сороковые годы критика постоянно указывала цыганам на слабые места в драматургии, сценографии или актёрской игре. И если кто-то думает, что рецензентами были исключительно тупые сталинские держиморды, то это глубокое заблуждение. Чисто теоретически можно вообразить, будто критика навязывала цыганам марксистский подход. Но я сам читал рецензии, в которых "Ромэну" пеняли на излишек марксизма. Обсуждая постановку "Кармен", советская газета пыталась объяснить театру, что тяжёлая доля испанского пролетариата волнует зрителей в последнюю очередь, а о классовой борьбе гораздо лучше написано в школьном учебнике.
Разумеется, в воспоминаниях Ром-Лебедева нет даже намёка на подобную полемику. Весь финал книги выдержан в худших традициях брежневской лакировки.
Тем живее выглядят сочные остроумные описания дореволюционной хоровой среды. Ведь мог же, когда хотел!
Отдельное "спасибо" мы должны сказать Ивану Ивановичу за зрительный ряд. Благодаря книге "От цыганского хора…" в оборот было введено множество уникальных фотографий. Это и дореволюционные портреты, и бытовые карточки тридцатых годов, и сцены из спектаклей. Зная о том, какое варварское безразличие испытали в ХХ веке цыганские архивы, помня об утрате большинства материалов, мы воздадим должное Ром-Лебедеву. Уж он-то понимал, какие ценности будут спасены от расхищения или от элементарного выброса на помойку благодаря публикации многотысячным тиражом. Сейчас мы, цыгановеды, идём по пепелищу. Ещё совсем недавно в нашем поле зрения были богатейшие коллекции, собранные трудом поколений. Увы, неблагодарные потомки не сумели оценить, что досталось по наследству… Может быть, цыганский драматург предчувствовал нечто подобное, когда выбивал под своё издание бумагу лучшего качества?
Возможно, эта рецензия получилась длинновата. Но я ведь не пытался "раздувать объём", Винить за пространные мысли вслух следует Ивана Ивановича Ром-Лебедева. Цыганского Швейка. Мифотворца. Любителя лукавых загадок. И - без всякой иронии - выдающегося деятеля национальной культуры.
Н.Бессонов. 2007 г.

