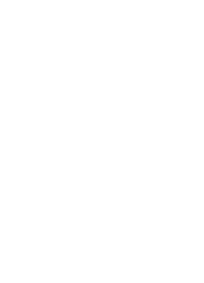
Иван Михайлович Панченко - родился в кочевом таборе на Алтае в 1941 году. Везде, где цыгане вставали на постой, отец отдавал Ваню учиться. В результате мальчик сменил 12 школ. Юность Ивана Панченко связана с педагогическим институтом. Желание рассказать о своём народе определило его творческий путь. В 1968 году вышел сборник стихов "Прощай, мой табор". Позже были и другие значимые публикации: "Подарок черген", "Костры", "Цыганы, родичи мои", "Рассказы старого цыгана".
Пожалуй, никто из цыганских литераторов не описал так ярко постановление 1956 года о запрете кочевья. Для людей из таборов вся жизнь делится на две части, ДО и ПОСЛЕ… В стихах Ивана Панченко живо отражено и то, и другое. Он не сторонний наблюдатель. Полуголые детишки на снегу, таборные споры вокруг Указа, новизна оседлого существования - всё это мы увидим глазами цыгана-сибиряка.
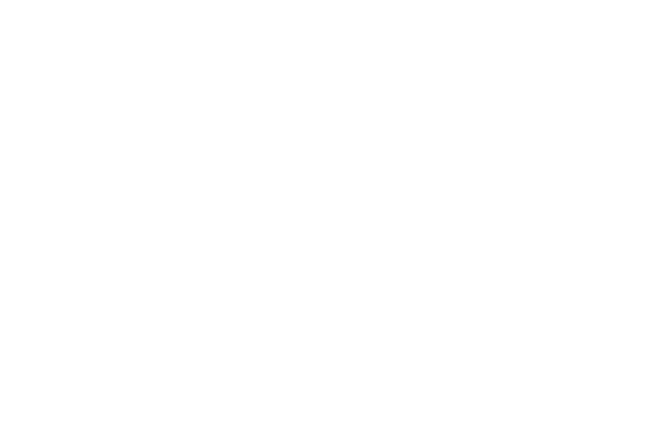
С работы Владимир шел усталый, хотелось пить, но до воды шагать да шагать, - чуть виднеются вдали расплывающиеся огоньки села. Целая туча комаров надоедает своим гуденьем, жалить не жалят - отпугивает их запах бензина и смазочных мазей, пропитавших фуражку и куртку, а носятся под самым носом, лезут в глаза.
Владимир поднялся на увал и совсем недалеко увидел костры. Костров было много, возле них двигались люди, где-то ржали лошади.
«Цыгане»,- определил Владимир и зашагал мимо табора. Но вдруг оттуда, из табора, донеслась тихая цыганская песня. Песня как будто убаюкивала степь, ласкала её. Казалось, кузнечики и горластые коростели в болотной осоке замолкли, прислушались.
Владимир остановился. Слова песни непонятные, как и её музыка, но до чего мягко, с тихой грустью, вела её невидимая женщина, хотелось ближе услышать её, увидеть певицу своими глазами. Владимир свернул с дороги и зашагал к табору, навстречу песне.
Целая свора собак встретила его, но в ту же минуту человек у костра вскочил, крикнул на них и они умолкли и, урча, побрели под телеги.
Цыган дружелюбно улыбнулся Владимиру, провёл к костру.
- Садитесь, будьте гостем. Стульев нет, на травку.
Поздоровавшись, Владимир присел на свободное у костра место, окинул взглядом притихших цыган. Напротив сидела девушка с гитарой в руках. Костёр освещал её смуглое лицо. Огромные черные глаза смотрели на Владимира с интересом.
- Спой ещё что-нибудь, дочка,- заговорила старуха, сидевшая возле девушки.- Повесели гостя, Маша.
Девушка встряхнула головой, пряди чёрных, волнистых волос упали на низкий лоб, рассыпались по плечам, девушка запела. И Владимир не сомневался - это она - певица столь дивной песни, которая заставила свернуть в табор. Теперь голос её звучал ещё нежней и приятней, звал куда-то вдаль, в просторы степи. В глазах девушки пылали отблески костра, она напоминала Владимиру что-то сказочное, и он невольно залюбовался ею. Вот она перевела свой взор на него и он, смущённый, смотрел на её маленькую смуглую руку, оживляющую струны, Эта рука вспорхнула и с силой ударила по струнам и они замолкли, а позади, за спинами людей, в темноте палатки, заговорила гармонь. Цыгане раздвинулись и парень в широких шароварах, с огромным смоляным чубом, закружился в бесовской пляске, а на смену ему вышла Маша, оставив гитару, дёрнула плечами, сбросила шаль, все затихли, только гармонь рассыпала серебряные колокольчики переборов.
- Т-э, нэ-э, - крикнула Маша и пошла по кругу.
Казалось русалка покинула дно реки и появилась здесь,
чтоб удивить людей гибкостью и красотой своего стана.
***
- Хозяин! Ай, яй, яй, какой у вас злющий пёс. Подержи-ка его, я пройду к крыльцу, - говорила цыганка, прижавшись к калитке.
Владимир оттащил пса, взял его за ошейник: «Проходите!»
Женщина пробежала к открытой двери и Владимиру бросились в глаза её босые ноги. Он следом зашел в комнату и в цыганке, подвязанной выгоревшей бордовой шалью, узнал Машу. Это была она. В глазах её была тревога.
- Ой, хозяин! Уйду я! У вас дома никого нет?
- А что, по твоему, я не человек?- улыбнулся Владимир.
- Садитесь.
- Ты человек.- Маша нерешительно опустилась на пододвинутый стул, огляделась.
- Хорошо, хозяин, вы живёте, всё как зеркало у вас. Жена, наверное, чистоплотница.
- Да я не женат,- возразил Владимир.
- По лицу твоему вижу; хозяин, изменения в жизни тебе предстоят, но будешь ты счастлив и богат. Хочешь, карты раскину?
- Можно, - удерживая смех, согласился Владимир.
Девушка придвинулась к столу, достала карты. В глазах её вспыхнул огонёк и так ярко загорел, что не хватало сил от него оторваться.
Молодой человек не видел, как она гибкими тонкими пальцами веером рассыпала карты, не слышал, как что-то говорила горячо и часто, он видел лишь её глаза, в упор смотревшие на него из-под длинных чёрных ресниц и огонёк, всё сильнее разгоравшийся в них,
- А ну, хозяин, позолоти ручку, а то карты неправду скажут,- и она улыбнулась, обнажая ровные белые зубы.
Владимир положил на стол десятирублёвую бумажку.
- Хлеба, хозяин, хлеба. Чертей кормить надо, наврут карты,- приговаривала Маша, пряча деньги. И снова покорился Владимир её взгляду. Отыскал в буфете булку хлеба, кусок колбасы.
- Ох, хозяин, предстоит тебе дальняя дорога в казенный дом. Бумагу получишь от бубнового короля и деньги, деньги - провалиться на этом месте - не вру
А Владимир смотрел ей в глаза и улыбался её выдумкам. И, словно, поняв его мысли, Маша умолкла и улыбнулась.
- А ты, мне кажется, хозяин, у нас в таборе был. Я сейчас только вспомнила, что тебя у нашего костра видела. Кудри мне твои рыжие запомнились.
Сунув булку и колбасу в мешок, она вскинула его на плечи.
- Я пойду, хозяин, приходите к нам в табор. Скоро свадьба у нас - посмотрите,- и она направилась к двери.
- Послушай, Маша,- остановил её Владимир.- Ты веришь своим картам? Ты не бойся, я никому не скажу; но скажи правду.
- Правду?- она внимательно посмотрела на Владимира, и огонёк в её глазах потух, взгляд их стал мягким, бархатным.
- Знаешь, хозяин, правда - она вот в мешке.
И вышла.
Владимир долго смотрел, как она пошла по пыльной улице
и наконец скрылась в переулке. А в следующий вечер, после смены, Владимир снова был в таборе, и Маша, улыбнувшись ему, взяла в руки гитару. Проворная рука её скользнула по грифу, другая коснулась струн, и они запели будто живые:
Гитара, милая гитара,
С тобой я не расстанусь никогда
Пусть стала ты немного старой,
Но будешь петь со мною до утра.
Красивый голос Маши сначала тихо звучал, как ручеек в весеннее половодье, но вот ручеёк зазвенел сильнее, будто в него влили свои трели ещё несколько ручейков, и гордая цыганская песня полетела по всей степи:
У нас в таборе девушек много,
Красотою их каждый пленён,
И однажды в селе по дороге
Один князь был в цыганку влюблён.
Девушка пела с тем особенным акцентом, который присущ только песням цыган, который покоряет слушателя внутренним трагизмом, заставляет предаться тихой грусти.
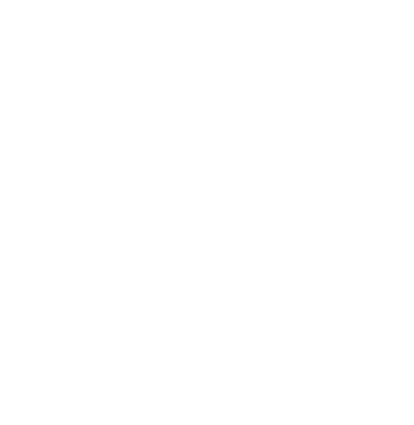
- Доброе утро, как хорошо ты играешь,- проговорила девушка. Он обернулся. Маша стояла у открытой двери. Вот шагнула через порог, бросила на стул пустую сумку:
- А Табарок ты можешь?- В ее глазах вспыхнул знакомый ему огонёк.
Пальцы Владимира забегали по клавишам, и Маша пустилась в пляс, шлёпая босыми ногами по крашеным половицам.
- Ах!- вдруг вскрикнула она и торопливо стала освобождать подол кофты, заправленный под юбку. Побитые яйца посыпались на пол.
Владимир не мог удержаться от смеха.
- Ах, хозяин, пол я вам замарала,- она стала подбирать злополучные яйца.
- Ничего, не беспокойся. Жаль, что яйца побила.
Владимир встал, собираясь помочь ей, но она отстранила его.
- Я сама, а ты сыграй что-нибудь, я послушаю.
И он взял в руки аккордеон. Маша, убравшись, села на стул. Лицо её, то становилось печальным, и тонкие чёрные брови сбегались в одну линию, то, казалось, какая-то внутренняя энергия как электрический заряд накапливается в ней и вот-вот настанет предел, и девушка, сорвавшись с места, закружится и выпорхнет в открытую дверь вместе со звуками музыки.
- Ты меня научишь, Владимир, я смогу, будь я проклята, смогу. Буду приходить к тебе. Можно?
- Пожалуйста,- согласился Владимир.
- Спасибо,- и она рукой потрепала его волосы.- Ты только ни кому не говори, что я к тебе хожу, а то меня отец бить будет, слышишь?
- Слышу.
***
Хаса о пирожки!
Хаса о грыбэнса ,- пела Маша, аккомпанируя себе на аккордеоне.
- Я пойду, а то поздно уж. Ждут меня. Завтра приду.
Она крепко пожала руку Владимиру, взяла мешок и выбежала из комнаты.
После её ухода Владимиру почему-то становилось грустно, хотелось остановить девушку и долго, долго слушать её красивые песни. Непонятное чувство появилось к ней, оно росло с каждым днём, с каждым появлением Маши. Владимир встал, подошел к окну: далеко на низине белели палатки табора.
Отец Маши торопливо седлал лошадь. Оседлав коня, подвязал хвост, выбрал из чёлки репей.
- Куда собираешься,- тихо спросила отца Маша, поднося к губам лошади корочку чёрного хлеба.
- Не кудыкай, дочка. Менять поеду. Будь ты парнем, давно ездила бы со мной, настоящего цыгана сделал бы из тебя,- он поправил шляпу, в руке взвизгнул бич, и опустился на ребристый бок лошади, она шарахнулась в сторону, но отец крепко держал повод.
- А ну милая!- ещё раз взмахнул бичом, легко вскочив в седло, и лошадь загарцевала под ним. Маша побрела в палатку. Присев на половичок, взяла гитару, легко тронула струны, запела. Грустная её песня порхнула по палаткам, нарушая дневную тишину табора, пробуждая мужчин, не уехавших менять и дремавших в тени телег.
Ватагой прибежали с реки цыганята, усевшись вокруг Маши, затаили дыхание. Дед Михайло, вернувшись с луга, сидел у костра, курил трубку, слушая песню внучки. Но вот Маша бросила гитару, вышла из палатки. Мёртвая тишина царила в таборе. Потухшие костры, сонные, как мухи, люди, сонные собаки — всё навевало неотразимую скуку. Эта противная скука щемила сердце, сжимала в своих объятьях.
«Ждет теперь»,- подумала девушка. Ей захотелось убежать в село, к Владимиру, но сегодня мать не пустила, ушла сама.
Вечерело. Табор оживал. Ржали приведённые к палаткам кони, загорали костры, послышались песни, где-то заговорила гармонь - всё слилось в общий шум, буйный шум цыганского табора.
Утром Маша проснулась рано, взяла приготовленный с вечера мешок. Посмотрев по палаткам - ушли или нет в село цыганки, босиком зашагала по мокрой, холодной траве. Девушка торопилась. Длинная цветастая юбка намокла от росы и липла к ногам. Маша приподняла её, поёживаясь, выскочила на вязкую пыль дороги.
Владимир ещё крепко спал, когда она вошла в комнату. Увидев его в постели, Маша осторожно на носках подошла к нему.
- Хозяин, хозяин,- пропела она дважды, легко толкнула в плечо Владимира. Он открыл заспанные глаза, непонимающе посмотрел на девушку.
- Ах, это ты,- и засмеялся, смеялась и Маша. - Почему вчера не пришила?
- Мать не пустила - сама пошла, ты уж, милый мой, прости.
От «милый мой» сердце у Владимира застучало часто, кровь прилила к лицу, а в голове мелькнула мысль: "А может это просто так, по цыганской привычке?"
Солнце постепенно заполняло комнату, первые робкие лучи рассыпались, слепили глаза, яркими бликами переливались по посуде.
- Знаешь,- говорила Маша, пережевывая жареный картофель,- вчера мой отец в село ездил менять, мать - гадать, а я в палатке одна - скука. На гитаре играла, пела, а всё равно — скука. У тебя не бывает так?
Владимир молчал, придумывая, что ответить. Рассказать о работе, о кино, занимательных книгах, - да разве она поймёт. Непонятная обида захлестнула его, кто виноват в том, что Маша не сможет понять его. Вилка выпала из его руки, и широкая ладонь легла на маленькую руку Маши. Девушка заметила внимательный взгляд Владимира, замолчала, огонёк в её глазах померк; на смуглых щеках выступил румянец. И это смущенное лицо Маши с кольцами волос, упавшими на лоб, с опущенными ресницами глаз в свете утренних лучей было так красиво и близко, что Владимир чувствовал её дыхание. Руки его медленно поднялись и опустились на ее плечи. Она не сбросила их, уронила голову на грудь Владимира, притаилась, спрятав лицо.
- Слушай, Маша, оставайся у нас в совхозе,- говорил Владимир, гладя её волнистые волосы.- Работать будешь. Весело у нас, хорошо. Вместе будем.
Она вдруг встрепенулась, встала.
- А жить где?
- Как где? У нас, у меня, койку поставим,- и осёкся,- не хочешь здесь, в общежитии, там тоже весело: кино, танцы, работа рядом. Согласна?
- Не знаю,- подумав ещё, добавила,- Ей-богу не знаю. Завтра скажу.
Маша заторопилась, взяла со стула мешок. Владимир заметил, что в нём ничего нет, вырвал его из рук девушки.
- Жди.
- Не надо,- крикнула Маша, но он уже был в подполье.
Набрав картофеля, он помог поднять мешок на плечо.
Маша пошла к калитке. Махнув Владимиру рукой, она зашагала по улице.
***
Старый Михайло проснулся рано. Ломило кости, ныла поясница. Почесал длинными ногтями бороду и вылез из-под перины. Посидел, послушал - не брякает ли где колокольчик, закатал выше колен дырявые подштанники, взяв узду, отправился в густой туман. Шел долго, остановился, послушал и снова пошёл. Откуда-то издали, сквозь толщу тумана, донеслась мелодия колокольчика.
«Неужели кони в полосе. Беда! Сейчас из села приедут. Потрава!»,- думал старик, шагая по высокой траве. Колокольчик становился слышнее, к нему присоединялись ещё и ещё. Старик, сгорбившись, побежал рысью. Бежал до самой полосы и ахнул - огромные катанины, кучи конского навоза, а там не далеко в полосе чёрные расплывающиеся точки лошадей.
«Беда, беда!»,- стучало в голове. Михайло подбежал к первой, попавшейся лошадёнке, взнуздав, тяжело вскарабкался на острый хребет.
- Но!- он со злостью потянул путем по округлому боку лошади. К табору прибежал, тяжело дыша, туго обхватив лошадь босыми ногами.
- Ухтэн! О грая дро маро. Ээй!
Цыгане торопливо выскочили из палаток, на ходу одевая штаны.
- В дорогу! В дорогу, ромалэ, хасиям!
Быстро снимали палатки, будили детей, складывали вещи в телеги, кто-то ругался, где-то плакал ребёнок - встревоженный табор собирался в дорогу.
Через пять минут на низине, где только что стоял табор, остались огневища, да круги примятой травы. Огромный обоз полем объехал село и выбрался на дорогу.
Отец рванул вожжи, стегнул лошадей и пара понеслась. Позади тоже не хотели отстать, зазвенели, заливаясь, колокольчики, застучали колёса.
Маша сидела позади отца, чтоб не заплакать, кусала губы.
«Всё, всё. Теперь не увижу. Всё» - проносились мысли, камнем ложась на сердце. Она и сейчас ещё не решила, осталась бы или нет, но что он может подумать - обманула, знала, что завтра уедет. И впервые Маша страдала от того, что Владимир может подумать о ней плохое.
***
Солнце уже скрылось за увалами. Стало прохладней. Лёгкий ветерок, играя морем пшеницы, приятно свежил лицо.
Лошади бежали дружно. Под ремнями шлей взбилась пена, клочьями падала на землю.
- Ищи теперь ветра в поле,- покуривая, сказал Николай.
- Найдем. Я след видел,- сквозь зубы ответил Владимир, вожжами тронул коренника.
«Завтра скажу»,- вспомнил Владимир слова Маши. Сегодня он догонял табор, чтоб узнать, что скажет Маша.
- А может она сказала это, зная, что завтра уедет? Нет, нет! - Владимир прочь гнал эту мысль.
- Смотри, табор!
Владимир посмотрел вперёд.
- Недалеко, у изгиба реки стояли палатки.
Цыгане, увидев ходок, засуетились и стихли. - Ясно, зачем едут из села - хлеба потравлены.
Маша ещё издали узнала Владимира, встала у костра, чувствуя, как сильно забилось сердце.
Приехавшие остановились у крайней палатки, поздоровавшись, подошли к костру. По одному подходили цыгане, настороженно смотрели на гостей. Поняв, что они заехали просто так, оживлённо заговорили: хвалили лошадей, предлагали сменять, если уж не лошадьми, то колёсами.
Сердце Маши застучало ещё сильнее, когда она подошла ближе.
- Молодой человек, давайте погадаю.
Владимир обернулся, схватил Машу за руку, но тотчас же опустил её.
- Что ж, можно.
- Тогда отойдём немного.
Владимир пошел вслед за девушкой.
- Володя,- она в первый раз назвала его так,- будь я проклята - не знала я, что сегодня уедем. Не думай.- голос её дрожал и срывался, в глазах, казалось, осталась влага утреннего тумана.
- Что ж ты решила?- глухо спросил он.
Маша молчала, влага в её глазах задрожала, собралась в алмазный комочек, скользнула по щеке, а вслед за первой покатились ещё и ещё. Они были крупные, сверкающие.
- Не могу, Володя. Проклянёт меня отец.- плечи её вздрагивали.- Какая жизнь будет с проклятой-то? Да и отцу в таборе места не будет. Прости, Володя.- она взглянула на него полными слез глазами, подала руку, маленькую, горячую - прости.
- Прощай,- Владимир крепко пожал её руку и, отвернувшись, пошёл к ходку.
Отдохнувшие кони просили вожжи, но Владимир сдерживал их - торопиться некуда, оглянулся. Маша стоит у палатки, смотрит вслед. Лица её уже нельзя разглядеть.
- Ну что, Володя?- спросил Николай друга и тотчас же понял, что спрашивать было незачем.
- Не поехала,- отвернувшись, ответил Владимир и больше до самого села не сказал ни слова.
* * *
Прошли годы. Был обычный летний день.
День был душный. Парило. Деревья стояли притихшие, не шелестящие ни одним листком. Куры лениво разгребали кучу золы в углу ограды, косо поглядывали на Владимира.
- Эй, хозяин, - вдруг услышал он и увидел у калитки цыганку. На её груди был полотенцем подвязан ребёнок. Цыганка открыла калитку, подошла к Владимиру.
- Давай погадаю, хозяин. Скажу, что тебя ожидает,- она говорила это, освобождая из-под цветастой кофты налитую грудь. Ноги младенца выбились из пелёнок, упали беспомощно и вяло.
- Хозяин, принеси напиться,- попросила цыганка и опустилась на ступеньку крыльца, не взглянув на Владимира. Он быстро скрылся за дверью, принёс в кружке воды. Она жадно пила, остатки вылила на босые ноги.
- Спасибо,- она глубоко вздохнула.- Садитесь, погадаю.
Владимир опустился рядом с цыганкой, взглянул в глаза
и что-то знакомое, давно забытое, увидел в них. «Неужели она?» Только глаза стали ещё огромней, щёки впали, да возле уголков рта появились ниточки морщин.
- Маша,- прошептал он, но она услышала его, ужас исказил её лицо.
- Владимир! Ты?
Дрожащей рукой сдёрнула с него картуз, в глазах блеснули слёзы и заструились по щекам. Вскочив, на ноги, она бросилась к калитке.
- Стой, стой, Маша!
Владимир, не помня себя, побежал вслед за ней. Маша не остановилась. Он на ходу достал из кармана всё, что там было, догнал Машу, сунув ей деньги в дрожащие руки.
- Не надо, не надо,- вскрикнула Маша, упираясь рукой в грудь Владимира, и не взяла деньги.
Она прибавила шагу и скрылась в переулке, как тогда, четыре года назад.
Подкатил грузовик. Из кабины выглянул Николай.
- Садись!
Владимир тяжело забрался в кузов.
- Ты что не в кабину?
- Езжай!
Резкий ветер засвистел в ушах, столбом поднялась позади пыль.
Г-Алтайск, 1960 г.
Ай, хозяюшка...
"Ай, хозяюшка, чистоплотница!
Ты скажи, как тебя назвать?
Ах, какая, видать, работница!
Пустишь, милая, ночевать?
Мы попьём с тобой чаю горячего.
Ох, на улице лютый мороз!
Ну так, что же, мать, заворачивать?
Цыганёнок в санях замёрз.
Что детей? Один черноглазенький,
А тихоня, что не слыхать.
Я по-русски зову его Васенькой…" -
"Что ж, входи уж… не замерзать".
В дверь пахнуло морозной свежестью.
Узелочки снимает с плеч
И с какою-то странной нежностью
Потихоньку кладёт на печь.
А хозяйка глядит из горенки
И за ситец бросает взгляд:
Там раскутавшихся, почти голеньких
Васей смугленьких пять сидят.
Цыганка
По пыльному подорожнику,
С котомкою, как всегда,
Черноглазая, смуглокожая,
Цыганка идёт - гадать.
Лучисты глаза раскосые,
В упор как бичами бьют,
Идёт по деревне босая,
Подбирая юбку свою.
А, встретив кого на улице,
Встаёт на его пути:
- Красивый!
Скажу - и сбудется,
Лишь руку позолоти!
По селу она долго бегала.
Много чёрствых кусков несла.
Хозяйку тележка бедная
С детьми за селом ждала.
К повозке пришла поникшая,
Утратив красу и стать -
Гадалка, колдунья, нищая -
Пятерых черноглазых мать.
Потрава
Мы все в шатрах своих уснули,
А ночь была темным-темна.
Проснулся табор, точно улей,
И понеслось: "Тюрьма, тюрьма…"
И захлестнула всех тревога
И голос, тонкий, как судьба:
"Ромалэ, трогаем в дорогу -
Мы потравили здесь хлеба!"
Пошли тотчас к оглоблям дуги,
Шипит в воде язык костра,
И на ходу в повозки с луга
Галдя, ныряла детвора.
В упряжках всхрапывали кони,
Из низких туч гремит гроза,
И при сверканье частых молний
Я видел матери глаза.
Вот ливень хлынул - поливает.
Ох, не жалеет Бог воды!
Но пусть с небес хоть камни валят -
А нам бы скрыться от беды!
Уйти, умчаться от потравы,
Пусть по спине змеит вода.
"Куда Баро сегодня правит?"
Да хоть куда, да хоть куда!
Молчала мать, как неживая.
Платок промокший на груди.
Ребенок, сердце надрывая,
В повозке плакал впереди.
Река неслась шальным потоком,
Тела ворочая коряг.
Тьма поредела... На востоке
Нежданно вспыхнула заря…
Я это помню
Я это время очень даже помню,
Когда девчонку, стройную, как лань,
Красивую, улыбчивую Тоню,
Привёл цыган в предутреннюю рань.
И приходили к нам из сельсовета,
Стращали парня ссылкой и тюрьмой,
Но на любовь не наложить запрета,
Не выдуман ещё закон такой.
О, как она цыганкой быть хотела -
Никто причины разгадать не мог!
Она и юбки пёстрые надела,
И красный кашемировый платок.
Все песни наши выучила спешно -
Не тратя на учения года.
Её, конечно, выдавала внешность,
Но и цыганки не смуглы всегда.
Завидовали парни: "Эка жёнка!
Каких теперь приводят из села!"
… Через полгода русская девчонка
В село цыгана-мужа увела…*
*- В реальности Тоня была студенткой, а не колхозницей. И упорно кочевала до Указа 1956 года. Финал стихотворения был вынужденной данью советской редактуре.
*****
Терпи, мальчишка,
Ведь хлеба нет.
Ну, что кричишь ты,
Не веришь мне?
Ушли ведь мамы,
Ты что - ослеп?
В селе обманут -
И будет хлеб.
Вернутся скоро.
Сейчас, сейчас.
Мешок, что короб!
Весь хлеб - для нас!
Большущий самый
Возьмешь кусок,
…А вдруг у мамы
Пустой мешок?!
Ман*
На телеге девочка в бреду
Худенькие вздрагивают плечи,
Думал я: коня вот запрягут -
И в село. И врач её излечит.
Кто-то даже всух про то сказал,
Но его тотчас же оборвали,
Я услышал резкое: "Нельзя!
Из села коня вчера украли".
Над больною наклонилась мать,
Заслонила щупленькое тело,
Прошептала: "Лучше б я сама
За тебя вот так сейчас болела".
А мужчины разговор вели,
Вразумляли "глупого" цыгана:
"Врач не Бог - не знает, что болит.
Лучше дать девчонке этой мана".
Не помог бедняжке верный ман.
Вечер. Зорька поднималась ало.
В этот вечер в таборе цыган
Девочки-смугляночки не стало.
*- "Ман" - таборное название лекарственного растения.
Газета
Табор перепуган был и тих.
Я читал измятую газету.
"Ты, парнишка, тише, не части,
Расскажи как следует нам это".
Как сказать и что ответить им?
А они как приговора ждали.
И от трубок поднимался дым.
Я сказал: "Саро, откочевали!"
Все молчали. Только дым и дым.
И глаза наполнены тревогой.
Не коснулись в таборе еды,
А газету и малыш потрогал.
День и ночь сидели хмуро так,
Лошадей впервые не поили,
И старик угрюмый, Байталак,
Закурил и выдохнул: "Отжили…"
Слово камнем на сердце легло.
Взгляд у деда над бровями тусклый,
"Нет, не верно!- крикнул Чирикло.-
Будем жить по-новому, как русский.
Сколько в сёлах, посмотри, зерна!
Я бы всё отдал за жизнь такую.
А работа - не страшна она.
Лишь бы только это не впустую".
Зашумели люди у костра:
- У тебя выходит очень гладко!
- Без коня остаться, без нутра?!
- А телеги наши, а палатки?
- А работать сможешь ты, скажи?
- Что ж, у русских можно поучиться.
- Что учиться? В землю положи
Зёрнышко - и вырастет пшеница.
В таборе поднялся шум и гвалт.
Спорили, о будущем гадали.
Выкатилось солнце на увал -
Лошадей цыгане запрягали.
Телевизор
Он купил обновку - телевизор,
На плече домой его принёс.
Будто броcил он цыганам вызов
Или трудный задал им вопрос.
Собрались и бороды чесали:
"Ай да Рува! Рува, как русняк.
Что за штука?! Сроду не слыхали.
Расскажи-ка, что оно и как?"
"Сколько стоит?" - весело спросили.
- Ого-го! Да это целый конь!"
Техника под вечер пригласили
И шутили: "Затянуть супонь".
На экране проносились тени.
Вдруг исчез их бешеный поток.
Появилась, как цветок весенний,
Балерина - сказочный цветок!
"Голая!" - и окна зазвенели,
Хохот был - захватывало дух.
Вдруг как будто люди онемели,
Грубый смех осёкся и потух.
На экране лебедь умирает,
Жизнь уходит. Наступает смерть.
Крылья лебедь в муке расправляет,
Но теперь уж к небу не взлететь.
А в избушке тихо. Слов не надо.
Ковш не звякнет и не скрипнет стул.
И, казалось, пусть стреляют рядом -
Но никто бы глазом не моргнул.
Крылья плавно лебедь опускает.
Смерть его, как истина, проста.
На экране лебедь умирает,
А в избушку входит красота.
Воспоминание
Я вспоминаю табор наш кочующий,
И песню грустную под скрипы колеса,
Цыган моих, вблизи дорог ночующих,
Им были кровом только небеса.
И ранним утром, лишь рассвет забрезжится,
Шагала мать, босая, по селу.
Ждала она, когда кусок отрежется,
Чтоб положить в заплечную суму.
О, как мы ждали милой возвращения!
Сидел отец с поникшей головой…
С утра одно нам было угощение -
Цыганский чай, заваренный травой.
Бежали к маме, как завидим издали,
И только ветер обогнать нас мог!
В глазах ее одну печаль мы видели -
Был слишком легок материн мешок…
И снова путь, дороги бесконечные,
И долгий, как бессмертие, напев,
Текли века, как реки быстротечные,
Цыган моих и каплей не задев.
*****
А что цыганы бедные любили?
Шатры у речки, табуны коней.
И чтоб кибитки по степи катили,
И чтоб у лета - больше жарких дней...
Но времена промчались те, что были...
Цыган теперь по-новому живёт,
Забыл он горький вкус дорожной пыли,
И песни у костра уж не поёт.
"Стихи любить цыгану не пристало! -
Я это часто слышал от отца -
Цыганы любят не стихи, а сало,
И чтобы дом - с машиной у крыльца".

